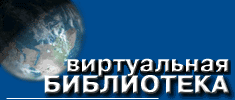
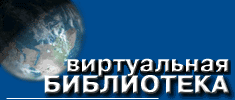 |
|
|
Книга: Татьяна Бенедиктова "Разговор по-американски"Рассказ Уилера — бездарен (лишен ценности) как информация и талантлив (высоко ценен) как игра. Повествователь, похоже, этого второго его измерения не замечает — в некомпетентном информаторе он не умеет (в отличие от нас!) опознать гениального клоуна. Не исключено, впрочем, что он только делает вид, что не умеет, и тем самым подыгрывает. Часть П. Писатель и читатель в «республике писем» 221 Тогда превосходство, которое мы по отношению к нему испытываем, свидетельствует лишь о нашей собственной недалекости — а разве мы хотим быть в ней уличены? Игра побуждает каждого определить свой статус как участника или постороннего, и первое, конечно же, предпочтительнее. В этом первом качестве читатель, «через голову» рассказчика и в то же время при его посредстве, «открывает собственную принадлежность к братству шутников с непроницаемыми лицами... Он сидит тут же, вместе с другими, вокруг костра, разделяя с рассказчиком привычные установки и условности речи»304. Взаимная отчужденность в этом кругу — обоюдно поддерживаемая видимость (разве только чужак примет ее за чистую монету), парадоксальное свидетельство полноты взаимопонимания. Твеновский идеал общения — состязательная игра, с обязательной и характерной подначкой, «покупкой», двойственностью восприятия любого явления или лица. Это свободный и творческий взаимообмен энергией — состояние столь же искусственное, сколь и естественное, столь же привилегированное, сколь и общедоступное. Клуб лоцманов и толпа пассажиров Идиллия игры в воображении Твена тесно переплетена с идиллией детства, а та, в свою очередь, с речной идиллией. В «старые времена на Миссисипи» не было, если верить его рассказу, мальчишки, который не мечтал стать лоцманом, и не было человека свободнее, чем лоцман. «Единственный, никем не стесненный, абсолютно независимый представитель человеческого рода», он не имел на корабле хозяина даже в лице капитана. Его естественным партнером была сама река, и щедрая, и капризная, с которой он ежесекундно (пока стоял на вахте) состязался в ловкости. Наслаждение свободой включало в себя еще и наслаждение общением с себе подобными «рыцарями» Миссисипи. Даже в промежутках между рейсами они не терпели сухопутной скуки и предпочитали ей корабельное гостеприимство. Для лоцмана-хозяина и лоцманов-гостей корабельная рубка была не «гостиной», а чем-то вроде самодеятельного театрика, где актеры и зрители играли на равных, составляя единый ансамбль. В нескончаемом, под стать струению реки, 304 Covici P. Jr. Mark Twain's Humor. The Image of a World. Dallas. Southern, Methodist University Press, 1962, P. 51.
222 Т. Бенедиктова. «Разговор по-американски» разговоре каждый был попеременно то рассказчиком-творцом «небылиц», то их слушателем-ценителем. «...Все лоцманы — неутомимые балагуры, когда соберутся вместе, а так как говорят они исключительно о реке, то всегда понимают друг друга (курсив мой. — Т.В), и их рассказы всегда интересны»305. Братство лоцманов изображается, таким образом, как разом и речное, и речевое сообщество. Культивируемая в нем общительность проявляется в двойном таланте творческого рассказывания-слушания, а также еще в таланте «чтения». Книгу реки, непредсказуемо изменчивую на протяжении 1200 миль, настоящий лоцман «читал» сверху вниз и снизу вверх, безостановочно, неутомимо, любовно и, в отличие от пассажира, еще и профессионально306. Пассажир только пролистывает речную книгу, в упор не видя «текста», в лучшем случае любуясь «набросанными солнцем и облаками» картинками-иллюстрациями. Профессионал именно читает (процедура куда более технологичная, чем любование), его взгляд, в сравнении с любительским, видит больше — и меньше. Овладев языком воды, я приобрел много ценного, говорит о себе повествователь, проходящий курс лоцманских наук. «Но в то же время я утратил что-то... Вся прелесть, вся красота и поэзия величавой реки исчезли!» (с. 306). Картину заката, которую пассажир созерцает в безмолвном восхищении, лоцман воспринимает чисто функционально, как прогноз погоды на завтра: где была поэзия — проступает шифр. Так не чревато ли освобождение от любительского простодушия атрофией эстетического чувства? Ответ на этот вопрос (несформулированный, но подразумеваемый) зависит от того, заметит ли читатель в «прилагаемом» описании пейзажных красот стандартный набор красивостей-клише307 и согласится ли с тем, 305 Жизнь на Миссисипи // Твен М. Собр. соч.: В 12 т. М.: Гос. изд-во художественной литературы, 1960. Т. 4. С. 275. 306 Помимо преданности предмету и посвященности в «тайны ремесла» профессионализм предполагает его (ремесла) рыночную востребованность. Последнее к лоцману относилось безусловно, ведь «чтение» для него — не развлечение и не самоцель: он обслуживал пароходы и пассажиров, за услуги получая плату, причем о ее размерах Твен повествует очень подробно, с точным указанием сумм! 307 «В одном месте длинная сверкающая полоса перерезывала реку; в другом — изломами дрожала и трепетала на поверхности рябь, переливаясь, как опалы; там, где ослабевал багрянец, возникала зеркальная водная гладь... и все это залито было угасающим огнем заката, ежеминутно являвшего новые чудеса оттенков и красок» (С. 292). В переводе и вне текста клишированность использованных здесь описательных оборотов, конечно, не так очевидна. Часть II. Писатель и читатель в «республике писем» 223 что от деконструкции поэтизмов поэзия только выиграет. Мы уже видели и еще увидим, что такой ход мысли встречается у Твена нередко: искусство обнаруживает себя путем «отшелушивания» искусственных форм. Но именно и среди широкой публики («пассажиров») преобладают те, кто способен опознать только такие формы, кто, покупаясь на них и покупая их, мнит себя ценителем искусства. В результате получается, что если река открыта всем, то сообщество лоцманов напоминает закрытый элитарный клуб. Тем самым оформляется расслоение, разделение людей на профессионалов и потребителей, актеров и зрителей, способных к творческому самопроявлению и способных только к потреблению товарных форм. Вторая группа, конечно, куда более многочисленна. Лоцманский разговор (в оригинале обозначаемый как «shop talk», «talk-talk-talking»308) по большей части непонятен для посторонних и даже заведомо отторгает их. К рассказчику это и относится, и не относится: в качестве «лоцманского щенка» он занимает промежуточное положение между пассажирами и «речными богами», для него их миры розны, но не безнадежно, из одного в другой возможен переход. Точнее сказать, был возможен. За годы, протекшие со времен его юности, напоминает Твен-повествователь, на реке, по причине технического прогресса, резко возросло число пассажиров, но почти не осталось лоцманов. Их избранное сообщество, братское взаимопонимание и особый разговор — принадлежность «старых времен», ностальгически вспоминаемых, но, по определению, уже недоступных. Основную часть третьей главы «Жизни на Миссисипи» — она называется «Картинки прошлого» — составляет как раз такая, ностальгическая зарисовка «потрясающего разговора» (tremendous talk), который происходит в компании людей реки, плотовщиков и лодочников. Это характерное состязание-братание на почве «небыличного» краснобайства: один подначивает, другой отвечает, одно фантастическое преувеличение рождает другое, ему под стать и даже пуще. На этом празднике общения, все участники которого «понимают друг друга», временно присутствует, в нем не участвуя, некто: герой еще не дописанного Твеном романа. Дело в том, что интересующая нас сцена предназначалась для «Приключений Гекльберри Финна», но в окончательный текст романа впоследствии так и не вошла. Она вся дана в 308 Twain Mark. Life on the Mississippi. N.Y.: Penguin Books, 1986. P. 89. ft 224 Т. Бенедиктова. «Разговор по-американски» восприятии Гека, который подслушивает разговор плотогонов, спрятавшись на краю плота, среди груды арбузов. Его (и наш) восхищенный слух ловит богатырскую похвальбу и кровь леденящие байки, поддразнивания и подзуживания. Гек мог бы, пожалуй, подыграть этой общей игре, встроиться в ее тон и лад разговора (будучи обнаружен, он именно так и делает: с ходу представляется как Чарльз Уильям Олбрайт, персонаж из подслушанной страшилки), да только его к тому никто не приглашает, напротив, его как чужака довольно унизительным образом спроваживают с плота. В избранном сообществе людей реки новый герой Твена остро чувствует себя аутсайдером. Игра на публику и против всех Почти на всем протяжении повествования о самом себе Гек Финн пребывает в пути — среди чужих и сам для всех незнакомец. Как подросток, он также находится в некоем промежуточном состоянии, не принадлежа вполне ни к детям, ни к взрослым (впрочем, детскость он при необходимости охотно разыгрывает, используя как оборонительную маску — например, трижды в романе проливает слезы, только в одном случае искренние). Никуда-неприписанность и ни-к-чему-непринадлежность обеспечивают ему завидную свободу маневра, в том числе риторического, возможность выбирать из широкого, хотя и небезграничного, репертуара масок и манер общения. Истории, рассказываемые Геком при каждой новой встрече, очень жизнеподобны, благодаря обилию конкретных деталей и точному учету ожиданий собеседника (который на них по большей части «покупается»), хотя, разумеется, насквозь лживы. Герой становится то Сарой Уильяме, то Джорджем Питерсом, ссылается на больную мать, дядю Абнера Мура, сестренку Мэри Энн, некую мисс Гукер — иначе говоря, вписывает себя в рамки то одного, то другого фиктивного альянса... Ради чего? Исключительно ради того, чтобы во внутреннее личное пространство никого не допустить, охранить его от настырных посягательств извне. По характеру и по обстоятельствам Гек — общительный человек, но общение это носит большей частью парадоксальный характер: смысл его — не в развитии установленного контакта, а в ускользании от него. Например, чтобы выбраться из папашиного заточения, Гек сочиняет «письмо», адресованное столько же неграмотному родителю, сколько вообще любому, желающему прочесть (to Часть II. Писатель и читатель в «республике писем» 225 whom it may concern). При посредстве топора, мешка с камнями и еще одного, с мукой, а также крови дикого поросенка и клока собственных волос он выстраивает последовательность знаков, красноречиво и вполне однозначно представляющих историю грабительского нападения и его, Гека, гибели. Распорядившись таким образом своей судьбой как персонажа, он обеспечивает себе как автору-анониму невидимость и свободу на будущее. Ту же тактику Гек применяет не раз и позже. Узнав, что на остров Джексон вот-вот отправится или уже отправилась экспедиция в поисках беглого негра, он предваряет свое с Джимом бегство созданием ложного знака: разводит «хороший костер на сухом высоком месте», который должен привлечь и отвлечь внимание «охотников» от настоящего приюта беглецов, уже, впрочем, тоже покинутого. «Хороший костер» — знак, оставленный, чтобы быть прочитанным, — псевдонатуральный знак-обманка, цель которой — временно «обездвижить» потенциальных читателей, т.е. преследователей. Усилия Гека здесь и в других ситуациях направлены на то, чтобы «откупиться» от мира, использовать иллюзию как средство ускользания от чужих ожиданий, властных «правд», предрассудков, диктующих ему ту или иную линию поведения309. Пребывая в состоянии круговой обороны, Гек играет разом против всех, он «весь вечер на арене» и никогда не выходит из игры вполне, хотя никогда и не погружается в нее до самозабвения310. Точнее было бы говорить не об игре (игра 309 Комическая версия этой типичной ситуации представлена в главе XII, когда Гек и Джим, мальчик и раб, которые могут отстоять свою свободу, только хитро используя зазоры между чужими предписаниями, обсуждают допустимость заимствования средств пропитания с чужих огородов и полей. Гек апеллирует при этом к двум авторитетным, но взаимоисключающим кодам — папашиному и вдовы Дуглас: «Папаша всегда говорил, что не грех брать взаймы, если собираешься отдать когда-нибудь; а от вдовы я слышал, что это тоже воровство, только по-другому называется, и ни один порядочный человек так не станет делать» (Твен М. Собр. соч. Т. 6. С. 74. Далее ссылки на это издание с указанием страниц в тексте). Можно принять к руководству тот или другой «принцип», но продуктивнее поискать между ними «трещину», область относительной свободы. Мудрое суждение Джима сводится к тому, что «отчасти прав папаша, а отчасти вдова», вопрос решается путем сокращения списка допустимых заимствований за счет плодов еще не зрелых или совсем не вкусных. зю g отличие от Гека, чернокожий раб Джим в основном находится «вне игры», и именно с его фигурой связана подспудно звучащая в романе тема ограниченности и, в каком-то смысле, нравственной сомнительности игровых отношений. Например, в главе XV путеше- 8. Заказ № 1210. 226 Т. Бенедиктова. «Разговор по-американски» предполагает партнера), но о представлении, шоу (они предполагают зрителя). Будучи одинок — всегда на краю, с краю человеческого сообщества, Гек почти никогда не остается наедине с собой (жизнь на плоту в этом смысле не исключение, тем более что две трети ее проходит в присутствии Короля и Герцога). Он всегда под наблюдением если не конкретных лиц, то обобщенной надзирающей инстанции, которую сам определяет как «Совесть». С «Совестью» Гек торгуется и препирается регулярно — в связи с вопиющим попустительством, которое, вопреки известным и уважаемым им нормам жизни, проявляет по отношению к беглому негру. Эти дебаты он воспроизводит в своем повествовании с простодушной серьезностью, но читатель воспринимает их, конечно, иронически. Не только для Твена, но и для большинства его читателей в 1880-х годах, не говоря уже о временах более поздних, очевидно, что внутренний голос (он же глас свыше), с которым Гек мучительно выясняет отношения, в действительности не более чем местный, исторически преходящий предрассудок. Но Гек этой предрассудочности, разумеется, не сознает. Перед воображаемым суровым соглядатаем311 он от- ственники оказываются временно разлучены течением и туманом: вернувшись на плот и застав Джима спящим, Гек пытается (без всякого умысла, «просто так») разыграть его, убедить, что ночь, прошедшая в отчаянных поисках, ему, Джиму, только приснилась. Тот вначале доверчиво принимает эту версию и даже предлагает изощренное истолкование мнимого сна, но, поняв, что все было шуткой, испытывает обиду совсем нешуточную. Гек, со своей стороны, переживает острый стыд. Он осознает, что ситуация, бывшая предметом глубоких и искренних эмоций, может быть только унижена обращением в игру. Впрочем, этот случай — исключение, которое лишь подтверждает общее правило его поведения в людях и на людях. В качестве другого примера можно привести финал (разбираемой ниже) главы XXIII. В заключение рассказа о том, как городок Брике -вилл «купился» на затею двух жуликов, следует крошечный, но важный в контексте эпизод: одиноко, ни для кого не видимо — не напоказ — Джим плачет, вспоминая, как принял внезапно наступившую глухоту маленькой дочери за деланную, разыгранную и, заподозрив с ее стороны притворство, поспешил обидеть. Убежденный предыдущим ходом повествования в том, что излишняя доверчивость в отношении форм жизни глупа и опасна, читатель в этот момент, заодно с Джимом, остро осознает, что подозрительность в отношении их может быть еще непростительнее. 311 «...И вдруг меня осенило: ведь это, думаю, явное дело... на небесах следят за моим поведением... Вот мне и показали, что есть такое всевидящее око, оно не потерпит нечестивого поведения и мигом положит ему конец» (с. 224). Часть II. Писатель и читатель в «республике писем» 227 чаянно пытается оправдаться, ссылаясь на смягчающие вину обстоятельства, как то: среду или изъяны воспитания («ничему хорошему меня не учили, значит, я уж не так виноват»). Аргументы, увы, не помогают, как не помогают и попытки умилостивить строгого судью: молитва не идет из «раздвоенного» сердца, которое кается напоказ, а внутренне продолжает упорствовать в грехе. Избавить от мук может только принятие «правильного» решения (донести на Джима) — Гек его и принимает, причем не единожды, всякий раз испытывая чудное облегчение. Например, написав письмо-донос мисс Уотсон (в XXXI главе романа), герой чувствует, «что первый раз в жизни очистился от греха» и потому готов наконец молиться. Готов-то готов, но... почему-то медлит: «Но я все-таки подождал с молитвой, а сначала...». Сначала Гек позволяет себе отвлечься от главного вопроса и отдается капризному потоку воспоминаний, игре воображения, представляя «Джима перед собой, как живого: то днем, то ночью, то при луне, то в грозу»: «то вижу, он стоит вместо меня на вахте, после того, как отстоял свою, и не будит меня, чтобы я выспался; то вижу, как он радуется, когда я вернулся на плот во время тумана или когда я опять повстречался с ним на болоте, там, где была кровная вражда; и как он всегда называл меня "голубчиком" и "сынком", и баловал меня, и делал для меня все, что мог, и какой он всегда был добрый; а под конец мне вспомнилось, как я спасал его — рассказывал всем, что у нас на плоту оспа, и как он был за это мне благодарен...» (с. 225—226). Поток образов, струясь через одиннадцать строк текста, объемлемых единственной, бесформенной, ветвящейся фразой, начинает как бы жить собственной жизнью: уже не говорящий его направляет и формирует, а сам поток, несет и своевольно меняет интенции говорящего, в итоге вынося его к состоянию странной растерянности: словно очнувшись от забытья, он «нечаянно» оглядывается на написанное только что письмо. После чего уже без всяких аргументов и мотивировок делает нечто противоположное только что принятому решению: «"Ну что ж делать, придется гореть в аду". Взял и разорвал письмо». Представленная здесь ситуация и трогательна, и многомерно иронична. В сознании Гека противостоят нравственный закон (норма) и он сам как недостойный исполнитель закона. В глазах же читателя участники конфликта — социальная догма (предрассудок) и здоровый нравственный инстинкт. Все четыре инстанции пребывают в состоянии хитрого маскара- 228 Т. Бенедиктова. «Разговор по-американски» да, который еще усугубляется по ходу предпринимаемых героем «маневров». Нравственный инстинкт притворяется простой забывчивостью, рассеянностью и, благодаря этому, успешно ускользает от конфронтации с социальным предрассудком, авторитет которого даже как бы не подвергается сомнению. Торжество нравственности принимает характер хитрого уклонения (evasion), которое герой переживает виновато, а читатель — удовлетворенно и сочувственно. В качестве другого характерного примера можно привести эпизод из главы XVI, где, смущенный и даже возмущенный радостью Джима по поводу близкого освобождения, Гек в очередной раз решает поступить «по совести» и предать друга первым встречным. Но по ходу разговора с охотниками на беглых рабов его воля и решимость поступить «правильно» борются с его же «трусостью» и «слабостью». Победа последних дополняется еще изобретательным актом надувательства, благодаря которому Гек с Джимом «зарабатывают» по двадцать долларов на брата. Гек в итоге вынужден признать свою неодолимую моральную ущербность: «ведь я знал, что поступаю нехорошо, и понимал, что мне даже и не научиться никогда поступать так, как надо». Читатель и в этом случае — через голову героя, но заодно с автором — радуется хитрости нравственного чувства, действующего вопреки осознанной воле, празднующего победу под видом поражения. При желании в романе можно вычитать — или в него вчитать — процесс духовного роста главного героя. Текст как будто бы предлагает нам эту сентиментальную схему, но одновременно и сопротивляется ей. Решение «гореть в аду», но не выдать Джима не знаменует (как хотелось бы и как должно было бы быть при «сентиментальном» прочтении) пика или перелома в нравственном созревании Гека. Недолгое время спустя он, к нашему разочарованию, опять погружается в суетливую неволю, зависимость от Тома Сойера и его книжных фантазий. Финал романа в связи с этим многими читателями переживается как неудачный и неуместный312. Он может быть прочитан, однако, и как нарочито-полемический. П. Ковичи, например, полагает, что Твен идет на риск оскорбления «лучших чувств» читателя вполне сознательно — чтобы усилить звучание в романе его центральной темы313. 312 Хемингуэй считал, например, что заключительную часть романа (все, что следует после продажи-исчезновения Джима) лучше вовсе не читать! 313 Covici P. Mark Twain's Humor: The Image of a World. Dallas: Southern iMethodist University Press, 1962. Часть П. Писатель и читатель в «республике писем» 229 Ее можно определить как тему несовпадения, взаимного отчуждения «производительной» (внутренней) и «меновой» (внешней) стоимости любого слова, поступка или переживания. Иначе — опосредованности всех человеческих отношений формами, сценариями, клише, которые не опознаются как условные, но оттого тем более властно организуют жизнь большинства людей. Мы солидарны с Геком в его хитростях именно потому, что ясно видим: это хитрит-изобретает его подлинная натура, пытаясь одолеть обманную «натуральность» предрассудка. Но, спросив себя, что же противостоит ложному авторитету предрассудка, мы вынуждены будем ответить: ничего, кроме бесформенности, уклонения, убегания. Приверженность правде в системе романа проявляется негативно и «операционально» — как обман обманщика. Моральную победу, скорее выторгованную, чем завоеванную Геком, не назовешь «рыцарственной», но читатель закрывает на это глаза, а почему — нетрудно догадаться. Открытый бунт против «Совести» как интериоризированной общественной догмы был бы чреват разрывом социальных связей и заведомой невозможностью вернуться «домой». На это Гек решиться не может, и уж конечно, не нам его попрекать трусостью. Из читателей тоже мало кто расположен по-настоящему углубиться в ироничность ситуации. Ибо если мы на это отважимся, то, как справедливо пишет Л. Триллинг, «уже никогда не сможем принять без сомнений и иронии основ той респектабельной нравственности, которою живем сами, — и уже никогда не будем свободны от подозрений, что принимаемое нами за безусловный нравственный инстинкт в действительности может быть всего лишь укорененным предрассудком, внушенным нам временем и средой»314. Так путешествует твеновский «everyman» Гек Финн по реке Миссисипи, вынужденно, но и не без увлечения жонглируя именами, ролями, личинами, меняя одну на другую, в процессе их смены то обретая, то теряя свободу. У описываемого процесса потерь-обретений обескураживающим образом отсутствует кульминация: эта желанная, но недостижимая точка сравнима с «Каиром», целью путешествия Гека и Джима, которая где-то на его середине теряется в тумане. Тем самым теряет смысл и путешествие, и все же, пока оно длится и впереди маячит призрак «новой территории», сохраняется в какой-то степени и надежда. 314 Trilling L. The Liberal Imagination. N.Y.: The Viking Press, 1950. P. 112-113. 230 Т. Бенедиктова. «Разговор по-американски» Шоу в Бриксвилле. И вдруг — шедевр? В «никудышный» городок с несуразным именем Брике -вилл (по-русски было бы что-то вроде «Кирпичбург») Гек попадает в компании жуликов Короля и Герцога (их приключениям посвящены XXI—XXIII главы романа). Бриксвилл ничем не замечателен, в нем ничего не происходит. Публичная жизнь целиком сосредоточена на Главной улице в тени торговых лавок, ее «субъекты», томящиеся бездельем зеваки (loafers), поглощены хитроумными расчетами, предмет которых — обмен, а предмет обмена — табачная жвачка. Неизбывная пустота жаждет заполнения и в качестве готового заполнителя жадно приемлет зрелище. При наличии любого зрелища, хотя бы и собачьей драки, аморфная человеческая масса, не выходя из привычно-пассивного состояния, сразу обретает подобие лица — преобразуется в публику. Зрелище разнообразит обыденность жизни и в то же время входит в ее состав, поэтому непременная характеристика бриксвиллского зрелища — повторяемость, вторичность, неоригинальность. Один из видов бесплатного развлечения бриксвиллских зевак на протяжении десятков лет являет пьяница Боге, — при известной степени опьянения он самозабвенно изображает отчаянного головореза: «Прочь с дороги! Я на военной тропе, скоро гробы подорожают!» (с. 151). Богсова похвальба выдержана в духе и стиле гротескного преувеличения, характерного для «небылицы». Природа жанра, как мы помним, предполагает игровую взаимоусловленность, способность и готовность участников общения оценить мастерство преувеличения и встречно ему подыграть. Но в стельку пьяный Боге неспособен отличить собственное лицо от личины, он принадлежит своей роли, а не играет ее, да и ему никто не подыгрывает: некому. Зевак хватает ровно на то, чтобы потешаться над шутом, одиноко мельтешащим на «сцене». Исключение составляют только двое. Это, во-первых, Гек: не подозревая о местном ритуале, он воспринимает угрозы буквально и пугается Богса. И это, во-вторых, полковник Шер-борн, которому угрозы адресованы непосредственно, но давно «надоели», поэтому он предпочитает воспринять их буквально и отвечает — расстрелом в упор. Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |
||